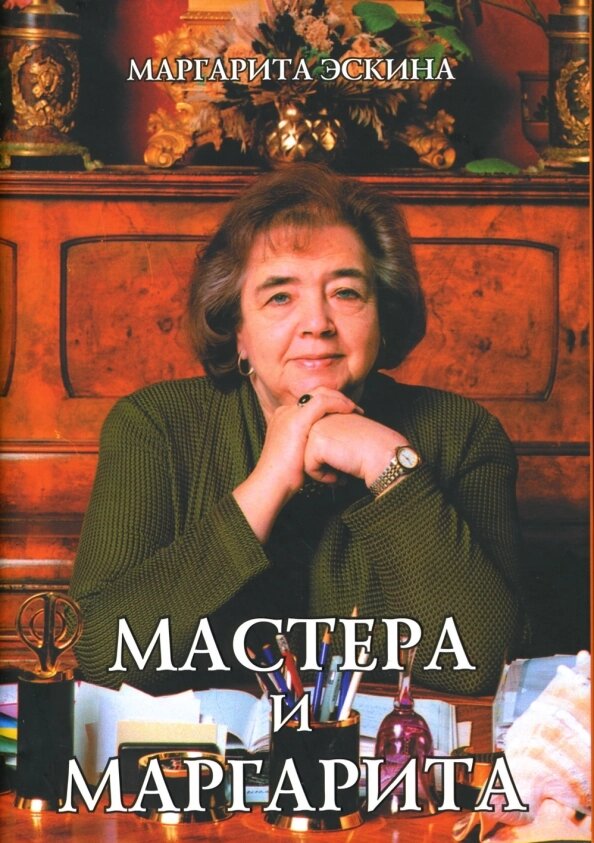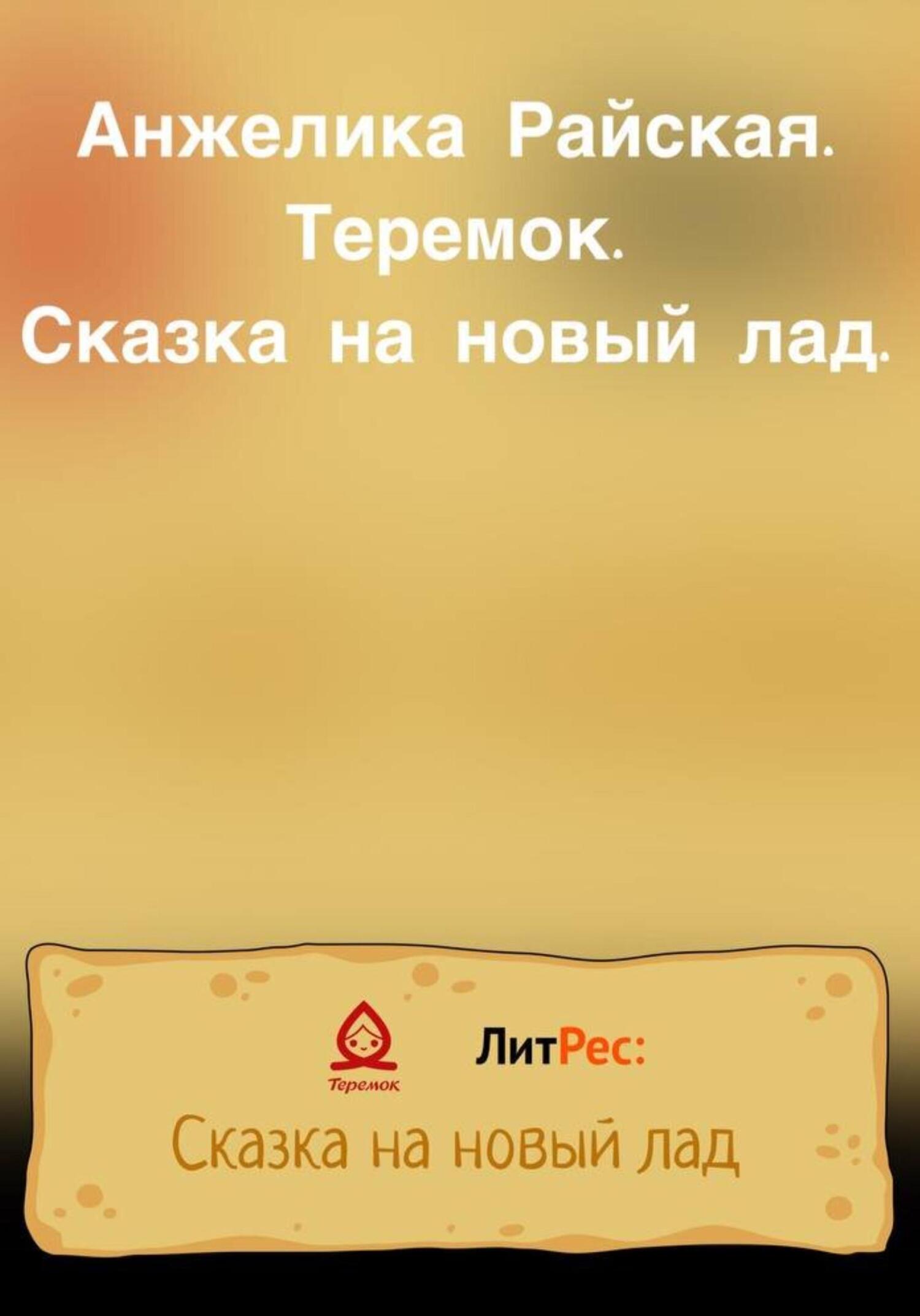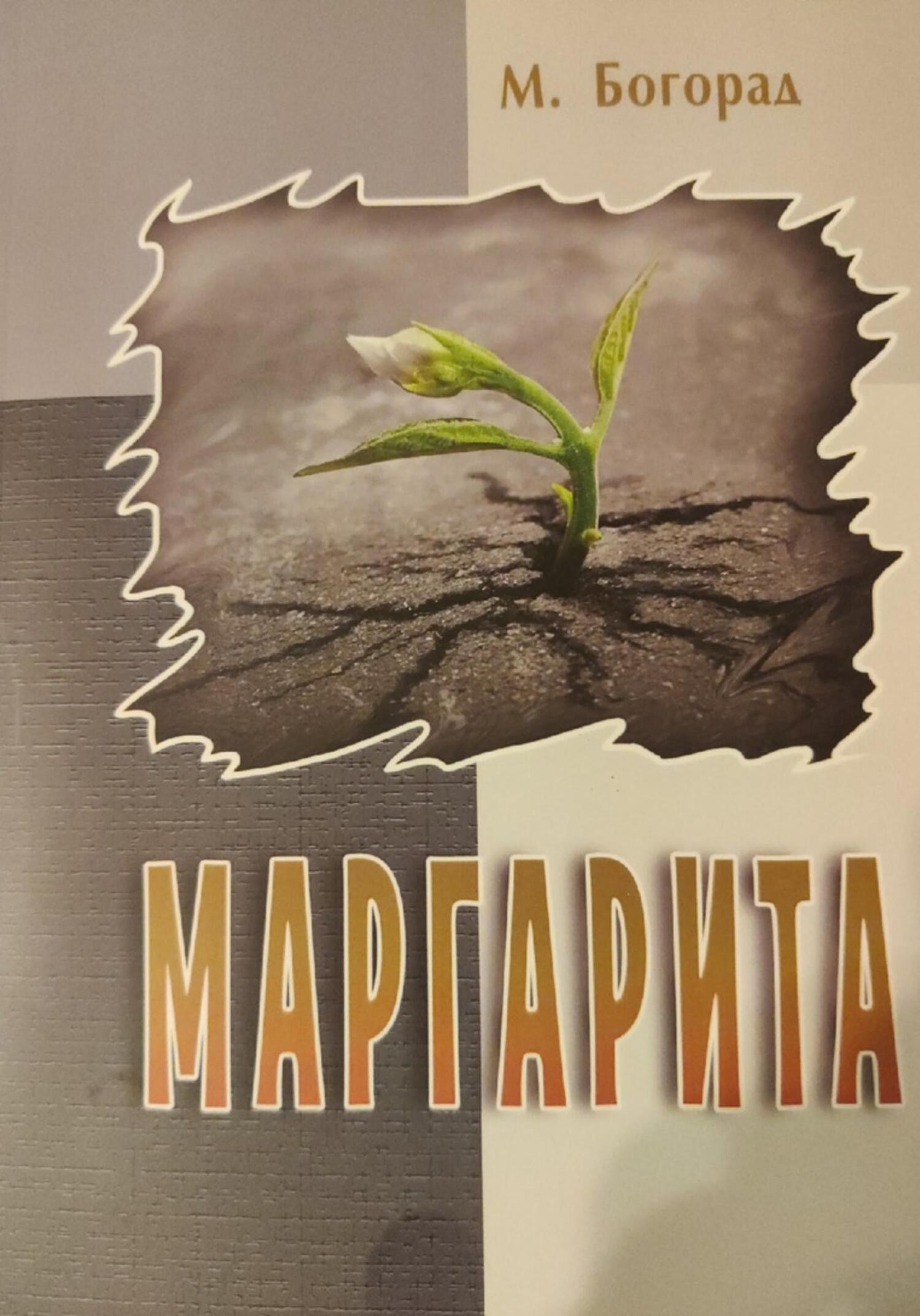в суровых ущельях, почти никто не живет, бродят серебряные волоокие рыси, трется в кизиле медведь, простреливает куница, серна цокает, пуганая, по белесым камням, а за камнем чего-то ждет тихая и незаметная кавказская гадюка.
Там же, в ущельях, разбросаны среди пихтовых чащ несколько пограничных застав и нет-нет, да и слышно издалека одинокую очередь.
— Кудрявый лес, — поворачиваюсь я к дяде Вачику, отхлебывая из своего стакана его вино. — Лермонтов так про Кавказ говорил.
Дядь Вачик, примостив свою острую задницу в поддельных джинсах «Версаче» на теплые камни, затягивается «Элэмом» и чешет себя слева под мышкой. Он всегда так делает перед тем, как сформулировать мнение.
— Лермонтов хороший был пацан, — медленно выдыхает дядь Вачик. — Уважаю.
Рядом две молодые увесистые отдыхающие, Люба и Галка, стягивают мокрые плавки, прикрывая друг друга полотенцами с надписью «Кока-кола».
Девушки знают, что мои оператор с водителем — здоровенный грек с ломаным носом по прозвищу Гагр и угрюмый, но добрый Андрюха — бывший грозненец без иллюзий и страхов — наверняка сейчас смотрят на них. Хотя бы уже потому, что смотреть больше некуда. Не на меня же им, в самом деле, смотреть.
— Это варенье, ты приколися, так и называется — фейхуевое! — слышится голос одной из девиц и ответный хохот обеих.
Дядь Вачик, поморщившись, отворачивается, опускает пониже к глазам синюю сетчатую китайскую кепку.
Солнышко машет розовым веером над вихрастой рощицей мушмулы.
— А ведь скоро война, — вдруг произносит дядь Вачик, щурясь на розовые лучи.
— Здрасьте, приплыли, — я наливаю себе еще вина в пластиковый стакан. — С чего вдруг?
Дядь Вачик чешет себя под мышкой неожиданно долго.
— Когда столько времени так безоблачно, всегда потом сразу война. Иначе в мире не будет гармонии, — объясняет дядь Вачик и туго напяливает презерватив обратно на липкое горлышко.
Это было в 2001-м, когда санаторий Московского военного округа еще принадлежал России и занимал лучшую бухту сухумского побережья.
Рассыпающиеся корпуса с полуголыми колоннами советской курортной архитектуры, водоросли на булыжниках пляжа, одичавшие на свободе магнолии и эвкалипты. Здесь, на линялых сатинчиках узких кроватей, без воды и удобств, в отсыревших каморках, оклеенных желтым в цветочек, растопыренных по сторонам пропахших кислым бельем коридоров, вперемешку ютились российские миротворцы, в сезон — совсем нищие отдыхающие и, наездами, журналисты, которым некуда было в ту пору больше податься, ибо на весь город-герой Сухум телефонная связь была только в кабинете у президента, в спальне у министра обороны и у нашего дяди Вачика в радиорубке.
Днем дядь Вачик запирал свою рубку и уходил на городскую набережную, под платаны, играть в домино. Кому нужен днем телефон — если что-то случится, и так все сразу узнают.
А нежными вечерами дядь Вачик садился на корточки перед рубкой и вслух грустил о былом:
— Везде, где я жил, потом начиналась война, — сообщал эвкалиптам дядь Вачик. — Вот такой характер, что сделать.
Он чесал левую подмышку и добавлял:
— А однажды со мной Джигарханян за руку поздоровался.
Война началась на следующий день. Аккурат когда мы упрятали в кофры штативы, выпили по последней с подполковником Вальком — одним из командиров базы — и уже было двинули в Сочи. И тут — на тебе!
По двору санатория прошмыгнули с тревожными лицами два срочника-поваренка в грязных белых халатах поверх камуфляжа, потащили куда-то огромные алюминиевые бадьи, от которых несло подгоревшей тушенкой. У них под ногами крошился еще советский асфальт.
— По алфавиту, я сказал, построились, а не по росту! — орал подполковник, вышагивая под эвкалиптами в нашем дворике между рубкой и пляжем, про который вдруг неожиданно выяснилось, что это не дворик, а плац.
Солдаты пугались, не понимая, как это — по алфавиту.
— А ты что стоишь? — гаркнул мне подполковник. — В шеренгу, я сказал! — и он обернулся к моим Гагру с Андрюхой.
— Э-э-э, Валек, ты с ума-то не сходи. Мы гражданские тут, вообще-то, — возмутилась я.
— Какой я тебе Валек?! Товарищ подполковник меня называть, и только когда я сам обратился, понятно? Кому непонятно, покинуть территорию военной части! — заорал подполковник, который с утра еще был Вальком, не говоря уже о том, каким безусловным Вальком он был ночью, когда дядь Вачик таки расщедрился на вторую десятилитровку и мы пели на остывающем пляже «Домой-домой-домой, пускай послужит молодой» и «Пусть плачут камни, не умеем плакать мы, мы люди гор, мы чеченцы» под одни и те же аккорды, потому что Валек других аккордов не знал.
— Понятно? — орал он теперь, возвышаясь надо мной своим багровым лицом со струйками красных сосудов в синих глазах.
— Да понятно-понятно, чё, — я встала в шеренгу, махнула ребятам, чтобы тоже встали. Куда же мы теперь денемся с базы, если война.
— Дядь Вачик, тебе что, отдельное приглашение нужно? — гаркнул Валек.
Дядь Вачик молчал, прислонившись к пыльному танку.
— Я к тебе обращаюсь! Сюда иди!
Дядь Вачик внимательно почесал подмышку.
— Мне там голову напечет. Я и отсюда тебя глубоко уважаю, — спокойно ответил он.
Валек хлебнул было воздух красным лицом, но, ничего не сказав, повернулся обратно к шеренге.
— Вооруженный отряд полевого командира Гелаева при попустительстве грузинской стороны проник в Кодорское ущелье! Сейчас там идут бои с абхазской армией! В Абхазии объявлена мобилизация, собирается партизанское ополчение. Ночью боевики сбили вертолет миссии ООН. Все девять, бывших на борту, вероятнее всего, погибли. Мы, как миротворческие войска, обязаны охранять мир и покой. Мир и покой! Понятно? — как по писаному чеканил подполковник.
Галка и Люба, стоя в шеренге, разглядывали купленные с утра на рынке и тут же напяленные босоножки. Их беззаботный вид заставлял предположить, что они не понимают по-русски.
— В скольких километрах от нас находится Кодорское ущелье?! — утрожающе крикнул шеренге Валек.
— В двадцати, — пробубнила шеренга.
— Именно! Мир и покой! — на всякий случай напомнил подполковник.
Свежие ветки кудрявого леса цеплялись за волосы и, если не увернуться, могли больно хлестнуть по лицу Я подпрыгивала на броне, одной рукой ухватившись за чей-то бушлат, другой прикрываясь от веток. Российская миротворческая «бээмпэшка» неслась так быстро, как только может нестись «бээмпэшка», догоняя «уазик» с абхазскими военными и нашу задрипанную «шестерку» с моими Андрюхой и Гагром.
Мы ехали по узким тропам Кодора в сторону сбитого вертолета. Внутри «бээмпэшки» гремели алюминиевые бадьи — те самые, которые испуганные повара тащили по плацу. В эти бадьи надо было собрать останки погибших ООН-овцев.
Изредка мимо проскакивали безмолвные деревеньки из двух или трех дворов с коренастыми домиками, с обязательной широченной верандой, прозрачными лесенками, куцей пальмой, пересохшей облезлой фасолью перед забором и притихшей